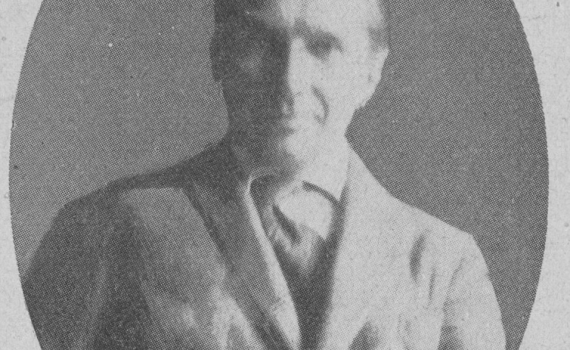
Почему до сих пор нет постановочной мировой премьеры?
Рубрика: выступления | Auff ru
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Dahms
Hamburg Staatsbibliothek https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN774616555_0016
[pgc_simply_gallery id=”221″]
Вальтер Дамс написал подробную статью об опере.
Причина, по которой полноценное представление до сих пор не состоялось (все еще 2026 год!), описана здесь:
Когда я впервые взял в руки фортепианную версию «Зарастро» Гёпфарта, я был потрясён смелостью автора, предложившего нашему времени нечто настолько невероятно простое, ясное и недвусмысленное. Правда, это произведение было задумано и создано к юбилею Моцарта в 1891 году. Но ужасные потрясения (прежде всего, Великая забастовка печатников) помешали запланированному исполнению — в Дрездене и Праге — в то время. А на следующий год было уже слишком поздно. Так что «Зарастро» до сих пор лежит неисполненным [ прим. автора: 1912]. Если бы это было в руках добрых немцев, которые так плохо осведомлены о своих творцах благодаря своим любимым газетам , произведение могло бы остаться неисполненным до скончания веков . Но было бы жаль, если бы стена инерции и злобы, воздвигнутая крайне однобокой, эгоистичной журналистикой между творческими умами и доверчивой публикой, в какой-то момент не была бы прорвана. Попытка была бы стоящей, поучительной и многообещающей.
Музыкальная драма Карла Гёпфарта «Зарастро».
Уолтер Дамс
Кто сегодня не навострит уши, услышав о произведении под названием «Волшебная флейта, часть вторая»? Мы так много говорим и пишем о Моцарте как о спасителе от сегодняшнего музыкального кризиса, как о лидере, вырвавшемся из пустыни современной непродуктивности. «Назад к Моцарту!» — кричали люди. Вайнгартнер же сказал: «Нет, вперёд к Моцарту!» Как бы это ни толковать, одно несомненно: дальнейшее развитие музыкального и драматического искусства никогда не может быть «преодолением Вагнера», но композитор, желающий создать нечто редкое, долговечное и при этом новое, должен начинать с чего-то, что было до Вагнера. Ведь есть ещё много нехоженых путей, ведущих к великому, возвышенному искусству.
Когда я впервые взял в руки клавир «Зарастро» Гёпфарта, я был потрясён смелостью композитора, предложившего нашему времени нечто столь невероятно простое, ясное и недвусмысленное. Правда, это произведение было задумано и создано к юбилею Моцарта в 1891 году. Но ужаснейшие потрясения (прежде всего, Великая забастовка печатников) помешали запланированному исполнению – в Дрездене и Праге – в то время. А на следующий год было уже слишком поздно. Так «Зарастро» до сих пор остаётся неисполненным. Будь на то воля добрых немцев, которые так плохо информируются о своих творцах из любимых газет, произведение могло бы остаться неисполненным навсегда. Но было бы прискорбно, если бы стена инерции и злобы, воздвигнутая крайне однобокой, эгоистичной журналистикой между творцами и доверчивой публикой, не была бы когда-нибудь разрушена . Эта попытка была бы одновременно стоящей, поучительной и многообещающей.
«Зарастро» произвёл на меня глубокое, неизгладимое впечатление с того момента, как я впервые его услышал. Я возвращался к этому произведению снова и снова. Мой интерес неуклонно рос. Наконец-то появилось произведение, стремящееся к чему-то совершенно иному, нежели то, что любит и поощряет современность. Здесь наши первобытные человеческие чувства не должны вызывать отвращения (как у популярных веристов и их немецких последователей) – нет, здесь они должны быть утончёнными. Нечто чистое, приземлённое, здоровое – короче говоря, нечто немецкое говорит с нами здесь в мощном, сентиментальном, слезливом блаженстве, подобно патологическим порывам, как словесным, так и музыкальным. Поэтому я пишу предостережение к этому произведению, ибо у меня, как музыканта и критика, сложилось твёрдое, непоколебимое убеждение, что оно должно воздействовать и на всякого человека, восприимчивого к благородному.
Всё это символично – борьба света и тьмы, добра и зла. «Волшебная флейта» Моцарта также имела эту тенденцию. Это был протест, понятный просвещённым венским людям того времени, против косности, распущенности и угнетения совести во всех сферах . Без всякого гуманистического фантазирования, опера стремилась провозгласить идеал всеобщего братства людей. (Однако надвигавшаяся Французская революция внесла резкий диссонанс в это – тоже своего рода братство, но иное!). В то время целью было изображение персонажей, очищенных испытаниями судьбы. Огонь и вода были лишь символами. Однако борьба света и тьмы, Зарастро и Царицы Ночи, в «Волшебной флейте» не разыгрывается. Финал указывает на грядущие времена, времена борьбы и раздоров.
Не кто иной, как Гёте, задумал и набросал вторую часть «Волшебной флейты», драму Зарастро, как оперный текст. Работа Гепфарта, чья поэма была написана Готфридом Штоммелем, покоится на этом фундаменте. Продолжение «Волшебной флейты» Гёте было оправдано. Борьба между двумя противоборствующими стихийными силами, приблизительно символизируемыми светом и тьмой, должна была когда-то разрешиться. Набросок Гёте дал драматургические ориентиры для Гепфарта и Штоммеля. Музыка Моцарта должна была быть сохранена в определенных мелодиях и мотивах в определенных моментах. И результат должен был быть примиряющим: любовь должна была победить ненависть. Столь же необходимым было воплощение масонских идей через конфликт, задуманный Гёте. Не может быть никаких сомнений в оправданности продолжения Гёте «Волшебной флейты»; это можно будет утверждать безоговорочно и радостно, когда мы станем свидетелями осуществления поставленных целей посредством безупречного исполнения работы Гёпфарта-Штоммеля.
Рассматривая «Зарастро», мы видим, что акты в своей структуре несут в себе отличительный элемент своей сущности . Первый акт содержит экспозицию. Она знакомит нас с различными мирами драмы: миром добра (Зарастро), миром зла (Царица Ночи) и миром первобытного человечества (Папагено). После торжественных вступительных звуков увертюры «Волшебная флейта» занавес поднимается над собранием жрецов. Каждый год они посылают в мир одного из своих братьев, чтобы тот стал свидетелем страданий и радости человечества. Земной паломник вернулся чистым, и на этот раз его судьба выпадает на долю Зарастро, их вождя. Он узнаёт в этом особый намёк: «Божество испытывает в опасности!» Он знает, что его ждёт серьёзная, великая миссия. Старый враг, Царица Ночи, изначальное зло, должен быть побеждён. Только он способен на это, ибо благодаря своей высшей духовной культуре он видит её намерения, но она – его. Торжественный, серьёзный тон пронизывает всю эту сцену. Выдержанные ритмы, ясные гармонии и проникновенные мелодии пронизывают музыку. Уже здесь становится ясно: «Зарастро» — вокальная опера в том же смысле, что и оперы Моцарта. Это также обуславливает особое положение произведения в современной оперной литературе. Оркестр не имеет решающего голоса; он лишь создаёт среду, своего рода фон, на котором разворачиваются события (музыкального характера).
Первое преображение переносит нас в царство Царицы Ночи. Изображение контрастного характера. Задорные ритмы сразу же передают ощущение мелочного беспокойства, царящего в этом царстве. Подобно Зарастро, Царица предстаёт перед нами в окружении своих соратников. Моностатос, мавр, чья дочь Памина сбежала в «Волшебной флейте», и который теперь служит и любит свою мать, докладывает Царице, что месть Царству Света в самом разгаре. Ребёнок Тамино и Памины, сын царя, заперт в золотом гробу, крышку которого может открыть только их тёмная сила. Символично: новая эра порабощена духами, боящимися света. Торжествующие вопли Царицы раскрывают её внутреннее противостояние благородному Зарастро. Как же справедлива его борьба с ней!
Вторая метаморфоза показывает Тамино и Памину в родительской заботе о своём любимце. Растущий страх Тамино за ребёнка приводит к тому, что он снова попадает под влияние своей матери, Царицы Ночи, которая пытается убедить его отомстить Зарастро. Но это оказывается искушением для Зарастро, который утешает его обещаниями великой миссии ребёнка в будущем. От нежной лирики женского хора, чьё пение сопровождает неустанные несения гроба, музыка в сцене искушения нарастает мощно и приводит к величественному, первобытному жреческому хору «Кто будет ревновать против света?»
Третья метаморфоза представляет нам жизнь и деятельность раскрепощённых, естественные людей, олицетворённых Папагено и Папагеной. Здесь, в весёлой суете детей, среди радости и шуток, происходит рождение Авроры, дара богов. Она – дитя народа, призванное искупить сына княжеского дома. Музыка мелодичного покоя сопровождает это преображение. Звучат несколько моцартовских мелодий. Приливы и отливы жизни текут живо, неисчерпаемо, уверенными штрихами, столь же простыми, сколь и действенными.
В то время как первый акт представлял собой экспозицию драмы, второй достигает кульминации драматического эффекта взрывом враждебных сил. Верный своему божественному призванию, Зарастро совершает свой земной путь. Здесь он встречает своего давнего врага. Судьба двух стихий, света и тьмы, свершилась. Королева не узнаёт странника. Чары неведомого овладевают ею и заставляют её гореть неистовой любовью к нему. Она стремится привлечь его на свою сторону, преследуя собственные цели, каждая из которых направлена на уничтожение Зарастро. В конце концов, он соглашается помочь ей устранить Зарастро, когда она клянётся освободить Феба, сына короля, из золотого гроба и тем самым вернуть его к жизни. Зарастро понимает, что должен принести жертвы, чтобы победить королеву и начать «новую эру». Этическая сила его личности и его исповедей поразительна. Музыка Гёпфарта столь же успешна, как и сам поэт в создании и исполнении этого виртуозного деяния. Он черпает вдохновение исключительно из собственного таланта, и его источник мелодической и характерной изобретательности неисчерпаем. Сжатыми штрихами он передаёт контрасты. Его музыкальный язык драматически силён и завораживающ, но при этом совершенно уникален и нов. Его уверенность в выражении эмоций очевидна повсюду. Показательно, как Царица Ночи, в своём кажущемся триумфе, впервые в драме прибегает к колоратуре, словно по внутренней необходимости. Здесь колоратура – поистине выразительное средство – по-настоящему необходимое и снимающее напряжение.
Третий акт неровен по своему воздействию; это результат накопления необходимых разрешений. Редкий случай в драматической литературе, когда новые персонажи (Аврора и Феб), играющие значительную роль в развитии и разрешении конфликтов, появляются здесь только в третьем акте. Третий акт, естественно, должен был содержать преимущественно моцартовские мотивы. Цитирование Моцарта отчасти обусловлено заметками Гёте. Так, Аврора появляется под музыку для глокеншпиля из «Волшебной флейты». Обоснование не требуется, поскольку здесь не слышно никаких других нот, кроме моцартовских. В отдельных номерах Гёпфарт использует форму музыкального рондо, к которой Моцарт часто прибегал. Ему приходилось придерживаться стиля. Нельзя сказать, что он упростил себе задачу, цитируя музыку Моцарта. Напротив, было невероятно сложно адаптировать собственное восприятие к стилю и духу Моцарта, чтобы не дать всему произведению распасться. Он мог бы заменить цитаты собственными вымыслами. Но он справедливо считал выражение Моцарта единственно возможным в этих конкретных отрывках.
Первая сцена возвращает нас к первобытным людям в лесу. Здесь Аврора освобождает Феба и тем самым возвращает человечеству Прометеев дар богов. Действие достигает кульминации в интимнейшей любовной сцене между двумя символическими фигурами. Далее следует бурлескная сцена, своего рода панфест, украшенная чарующей, самобытной балетной музыкой.
Первая метаморфоза показывает нам отрывок из придворной жизни в королевском дворце Тамино. Дамы и господа ссорятся из-за последних новостей. Бесплодный спор прерывается объявлением о самом последнем известии: прибытии искуплённого принца Феба с Авророй. Так начинается конец. Рождается новая эра. Гёпфарт нашёл восхитительные тона для беседы придворных, тональности, раскрывающие его как мастера музыкального юмора.
Открытая трансформация приводит к финалу. Здесь возникают самые яркие контрасты между радостным ликованием при появлении молодой княжеской четы и скорбью жрецов по поводу смерти Зарастро. Эти две сцены могли быть изображены только с использованием мотивов, вдохновлённых Моцартом, с ликующим хором из финала «Волшебной флейты» и Музыкой Огня и Воды до минор. По мере развития действия, например, с появлением Царицы Ночи, которая также появляется, чтобы праздновать победу и ликование, Гёпфарт находит свои собственные, очень характерные акценты. Действие развивается в катастрофу. Царица требует увидеть своего мёртвого врага: «И пусть моё королевство рухнет!» Тамино ведёт её к саркофагу Зарастро. Узнав в теле странника, она падает без сознания. Тем временем, все жрецы в унисон исполняют бессмертную мелодию Моцарта «О, Изида и Осирис», клянясь продолжать трудиться в духе Зарастро даже после его смерти. Поражённая ужасным осознанием (собственного поражения), которое её постигло, королева выражает страстное желание вступить в возвышенные узы любви, но жрецы с негодованием отвергают её. В тоске королева взывает к преображённому Зарастро (своему врагу и другу) дать ей знак примирения и исполнения её желания. Это происходит. Появляется гений, касается королевы ладонью мира и ведёт её в царство вечного покоя. Зарастро и королева появляются едиными под куполом – любовь победила ненависть. С ней искоренено всё зло. Правящая семья и народ теперь присоединяются к ликующему хору освобождения через любовь с совершенно иным чувством восторга.
«Зарастро» Гёпфарт-Штоммель предстаёт произведением этического замысла и чистой, великой воли. Эта способность идти в ногу с волей неоспоримо проявляется в поэзии и музыке. Немецкие оперные театры обязаны позаботиться о том, чтобы столь серьёзное и прекрасно выполненное произведение не осталось без успеха. Их долг – вывести на сцену произведение, которое своей возвышенной идеей, простотой и силой замысла и исполнения выделяется на фоне остальных, произведение, которое своей внутренней простотой и правдой занимает исключительное место в современном творчестве и которое, я твёрдо убеждён, всегда будет производить глубокое, неизгладимое впечатление. Немецкая сцена, начинающаяся с «Зарастро» Гёпфарт, будет иметь репутацию подлинного художественного достижения.